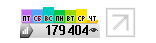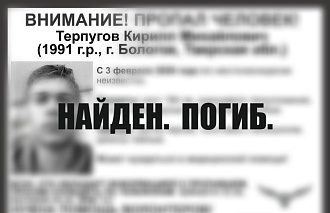— Вадим Николаевич, пожалуй, для любого российского предприятия сейчас наиболее затратной статьей является оплата энергоресурсов. И часто можно услышать мнение, что снижение тарифов должно стать частью государственной политики, иначе наша промышленность будет неконкурентоспособной по сравнению с компаниями стран ВТО, где как раз и взят курс на понижение тарифов. Вы являетесь сторонником такой точки зрения?
— Глупо было бы говорить, что я не сторонник. Однако нужно понимать, что рост тарифов неизбежен. У нас погоня за прибылью в естественных монополиях идет не через сокращение затрат, а через продавливание, лоббирование «правильных» тарифов. Всем известно, что при формировании тарифов в РЭК используется методика, которая предусматривает как поддержание монополий, так и их развитие. Поэтому в цену ресурсов закладывается инвестиционная составляющая. Вроде бы все логично, но как эта инвестиционная составляющая расходуется, насколько она эффективна, для общественности тема закрытая. Если посмотреть исполнение инвестиционных программ за год, то оно составит максимум 55%. Тем не менее те деньги, которые монополии планировали инвестировать, они уже заложили в тарифы и получили их с предприятий и населения.
Кроме того, не стоит забывать о несбалансированности, например, той же электроэнергетики. Ее основные источники и генерация находятся в Сибири, а основное потребление — на европейской территории России. Транспортировать электроэнергию тоже проблематично: большие расстояния ведут к большим потерям. Сейчас в интернете идет обсуждение грандиозного проекта: чтобы всю электроэнергетику увязать в единую сеть, чтобы, в том числе, генерация в Западной Сибири имела возможность подавать энергию и на Европейскую часть, и на Дальний Восток. Это все, конечно, хорошо, поможет в дальнейшем стабилизировать динамику изменения тарифа, но не предполагает его снижения.
— То есть чтобы выжить в этом поле, предприятиям нужно шевелиться самим, снижая затраты. Это сейчас и происходит, по вашим наблюдениям?
— Не буду отвечать за другие предприятия, но в нашей компании такой опыт есть. Если помните, когда об энергосбережении только начали говорить на высшем уровне, каждое предприятие обязали иметь энергетический паспорт. Для того чтобы этот документ был, нужно пройти энергетический аудит. Можно сделать это формально — сейчас масса компаний, которые этот паспорт сделают за небольшие деньги. Но он будет иметь такую же ценность, как диплом, купленный в переходе. Мы пошли другим путем: выбрали по тендеру компанию, которая сделала реальный энергетический паспорт со своими выводами. Они обследовали каждый объект энергопотребления — это и электродвигатели, и трубопроводы, и котельные, подсчитали потери тепла по зданию. Их рекомендации после мониторинга составили порядка 50 листов. Мы, в свою очередь, определили три группы инвестиций: первая — то, что можно сделать быстро и с минимальными затратами. Это, например, все те же светодиодные лампы. Там где срок окупаемости 3-5 лет и необходимы более серьезные вложения — это вторая группа. Постепенно мы и этот вопрос решаем.
И третья группа вложений — со сроком окупаемости более 5 лет и требующие значительных затрат. Например, мини-ТЭЦ. Мы сейчас для нашей котельной для выработки пара потребляем газ, а вместе с тем могли бы еще и электроэнергию производить, которая была бы в два раза дешевле.
Вадим ДЕШЕВКИН, генеральный директор ООО «Частная пивоварня «Афанасий»: — Мы получаем электроэнергию дешевле, чем если бы приобретали ее у гарантирующего поставщика. К примеру, за 10 месяцев текущего года мы получили экономию в 1,4 млн рублей.
— Вадим Николаевич, на заседании совета руководителей промышленных предприятий при администрации Твери вы, наверное, первым озвучили другой путь решения проблемы: чтобы предприятия самостоятельно вышли на оптовый рынок электроэнергии и закупали ее, минуя гарантирующего поставщика, тем самым снижая свои затраты. Это реально?
— Не совсем так: конечно, наибольшей эффективности компания добивается, если приобретает ресурсы на оптовом рынке вообще без посредников. Но для этого необходимо формировать собственную службу и комплектовать ее высококлассными специалистами. Ведь сейчас стоимость электроэнергии на оптовом рынке — это в первую очередь биржевая составляющая, цена на ресурс изменяется каждый час, и умение прогнозировать ситуацию и зафиксировать стоимость в определенный момент требует определенных знаний и навыков. В рамках нашей компании мы решили, что для нас это преждевременный шаг — затраты на содержание штата специалистов будут выше. Да и мощности потребления на данный момент не позволяют этого делать.
— Тем не менее, насколько нам известно, зависимости от гарантирующего поставщика вам удается избежать?
— Да, и хотелось бы пояснить, почему мы пошли на такой шаг. При договоре с гарантирующим поставщиком от предприятия ничего не зависит — он нас определил в какую-то ценовую категорию, и все. Чтобы мы ни делали, чтобы ни внедряли, мы не можем получить большую эффективность: остается только сокращать потребления. А на оптовом рынке мы можем влиять на стоимость киловатт-часа через планирование своего потребления и своего графика. Поэтому мы и начали работать с провайдерами, с которыми возможны договорные отношения по формированию торговой надбавки. Есть ведь не только гарантирующий поставщик, но и оптовые компании, которые работают с оптовыми рынками. С одной из этих компаний-провайдеров мы договорились о фиксированном дисконте, причем не в процентном соотношении, а в абсолютной цифре. То есть как бы ни развивалась ситуация, мы получаем электроэнергию дешевле, чем если бы приобретали ее у гарантирующего поставщика. К примеру, за 10 месяцев текущего года мы получили экономию в 1,4 млн рублей.
Это, конечно, незначительное сокращение, но если учесть, что средняя заработная плата в компании составляет 20 тыс. рублей, то на сэкономленные деньги мы вполне можем содержать целую бригаду.
— Вы сказали, что экономия в 1,4 млн рублей для вашего предприятия несущественная. А другие плюсы у отказа от работы с гарантирующим поставщиком имеются?
— Есть еще один принципиальный момент: понятно, что гарантирующий поставщик — это статус, который позволяет и заставляет компанию выполнять, в том числе, и социальную функцию. К чему это ведет: у сбытовой компании есть потери, которые для нас непрозрачны. К примеру, тарифы для сельского хозяйства ниже, чем для промышленности. Часть населения (и не только населения) не платит. В результате возникает так называемое перекрестное цено-образование, когда в тарифы для предприятий закладываются эти потери — я считаю, что это несправедливо. Работая с гарантирующим поставщиком, мы не можем влиять на ситуацию. Когда же мы заключаем договор с провайдером, мы можем отслеживать, за какие деньги он приобрел электроэнергию на оптовом рынке. К этой сумме добавляется заранее прописанная в договоре торговая надбавка — и все. У нас отдельный договор заключен и на транспортировку ресурса. Поэтому для меня в этой структуре все прозрачно. Пусть экономия несущественная, но, по крайней мере, мы можем видеть, за что платим деньги. Да и, как говорится, курочка по зернышку. Прошло то время, когда зарабатывать было легко. Возникшее конкурентное поле заставит нас работать с любыми, даже копеечными, затратами.
— Наверняка ваш опыт захотят взять на вооружение и другие предприятия. Где им найти провайдеров? Какая у вас была стратегия действий?
— Вся информация об энергосбытовых компаниях есть и в СМИ, и в интернете. Мы в свое время ее обобщили и разослали компаниям предложения по участию в тендере. У нас есть положение о договорной работе, которое предусматривает заключение договора один раз в год, и в случае изменения тарифа более чем на 5% проводится еще один конкурс. Кроме того, в положении прописано, что в конкурсе должно участвовать не менее 5 компаний. Мы пригласили их со своими презентациями, провели еще раз переговоры и выбрали наиболее выгодное предложение. Причем решение принимала созданная на предприятии комиссия специалистов, в которую я, кстати, не вхожу, чтобы не давить на коллег.
— На что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе поставщика?
— Во-первых, на его надежность. И на те компании, с которыми он работает, то есть на так называемый референц-лист. Нужно не полениться этот референц-лист проверить — позвонить трем-четырем партнерам и убедиться, что энергосбытовая компания и финансово состоятельна, и профессиональна. Сейчас их, кстати, не так много — не более десятка по всей России.
— Вадим Николаевич, в начале нашей беседы вы упомянули, что самостоятельный выход на оптовый рынок электроэнергии для вашей компании был бы преждевременным шагом. А если объединиться с другими промышленниками?
— Технически такое объединение невозможно, потому что есть точки присоединения, по которым считается потребленная мощность. Но для получения преференций при заключении договора, конечно, реально. Если я, например, пойду один на рынок покупать яблоки, то мне установят цену. А если с собой приведу еще 100 человек и мы заявим о намерении купить все, но со скидкой 30% (не продадут — обратимся к соседу), то обязательно получим выгоду. Это нормальный торг, и такая схема работает — хоть на продуктовом рынке, хоть на энергетическом.